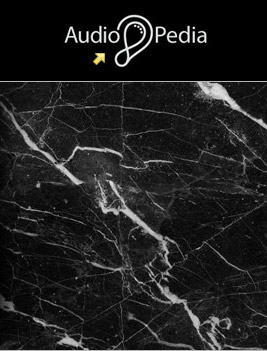Никита СТРУВЕ
О ГАРВАРДСКОЙ РЕЧИ А. СОЛЖЕНИЦЫНА
Солженицын не только писатель, но, как и его великие предшественники XIX века — Гоголь, Достоевский, Толстой, он одарен еще и пророческим даром, пророческой харизмой. Что превращает писателя в пророка? Прежде всего, соотнесенность его слова высшей Ценности, понятой как безусловное нравственное веление. Но право пророчествовать, данное Богом, надо еще закрепить. Как Достоевский, Солженицын заплатил за это право годами страданий, а после выхода из лагеря тем, что целиком отдал себя, свою жизнь, свое творчество — служению.
Гарвардская речь принадлежит к роду пророческих выступлений Солженицына. Как пророки Ветхого Завета, хотя и в несколько ином, более политическом ключе, Солженицын обращается к своим современникам на Западе с беспощадной критикой и с призывом измениться, переродиться, чтобы избежать полного исторического крушения. И в этом бичевании западных пороков, сопряженном с призывом вверх, есть своя пророческая непреложная правда, с которой не поспоришь. Правда Гарвардской речи не столько в тех или иных конкретных обличениях, сколько именно в этом экзистенциальном соотношении пророка и реальности. В каком-то смысле подлинный пророк всегда в целом и в основном — прав, даже если в частностях не справедлив. Более того, пророк вероятно всегда отчасти несправедлив, и тем не менее, в ином, надмирном плане, прав.
Безусловно, западные страны не на высоте своего призвания, безусловно, им угрожает гибель от внешней грубой силы, безусловно, им необходимо отрясти засасывающую тину комфорта, самоуслаждения и обратиться вверх.
И голос Солженицына раздается тем громче, что на Западе упадок религиозного сознания повлек за собой и угасание пророческого слова. Пожалуй, последним пророком на Западе был французский католический писатель Ж. Бернанос, который с неистовством призывал своих современников очнуться от духовной спячки, пока не поздно. Но голос Бернаноса редко когда перелетал за пределы Франции. Солженицын же восстановил пророческое измерение писателя во всемирном масштабе.
Обличая Запад, Солженицын продолжает длинную, полуторавековую традицию русской общественной мысли. Уверенность, что начала западной философии губительны для человечества, восходит ко временам французской революции. Известный масон-мистик Иван Лопухин писал в конце XVIII столетия: «Дух ложного свободолюбия сокрушает многие в Европе страны», и это изречение Солженицын мог бы поставить эпиграфом к своей речи. Именно «ложное свободолюбие», а не драгоценный дар свободы усматривает он на Западе. Поразительны совпадения с речью Солженицына в «Русских Ночах» кн. Одоевского. Уже тогда казалось, что «Запад гибнет», что в своем «материальном опьянении» он эгоистически забывает о главном. «Говорят о всеобщей воле, пишет Одоевский, а дело идет о выгоде нескольких купцов или, если угодно, акционерных компаний.» Ср. Солженицынскую критику нефтяных компаний, которые «покупают изобретение нового вида энергии, чтобы ему не действовать». В сходных выражениях обличают Одоевский и Солженицын западного журналиста, хотя между ними 150 лет сложной и бурной истории. У Одоевского: «журналист на Западе до истощения сил уверяет в своем беспристрастии, но все его читатели хорошо знают, что во вчерашнем заседании акционерной компании журналу определено быть того мнения, а не иного». У Солженицына: «у западной прессы в целом тоже обнаруживается общее направление симпатий (ветер века), общепризнанные доступные границы суждений, а может быть и общекорпоративные интересы...»
В нападках на юридизм на общество, «ставшее на почву закона, но не выше», Солженицын очень близок, вероятно сам того не зная, к Ивану Аксакову, писавшему сто лет назад: «На Западе душа убывает, заменяясь усовершенствованием государственных форм, полицейским благоустройством; совесть заменяется законом, внутреннее побуждение регламентами, даже благотворительность превращается в механическое дело. Запад потому и развил законность, что чувствовал в себе недостаток правоты».
Можно было бы продолжить эти сопоставления, и найти у Герцена, Леонтьева, Розанова, а затем у Бердяева немало точек соприкосновения с Гарвардской речью, например, в отталкивании от демократии как от царства посредственности, в осуждении западной мягкотелости и т. д. Нам хотелось только подчеркнуть устойчивость в восприятии, вернее в неприятии Запада русским духом, русской общественной мыслью, с конца XVIII века вплоть до наших дней.
Однако далекие предшественники Солженицына имели перед ним одно преимущество: они противопоставляли гниющему (Шевырев), гибнущему (Одоевский) Западу русскую самобытность, крестьянскую общину, народ еще не тронутый неверием, силу религиозного быта и мистических традиций. А что теперь противопоставить Западу?
Запад может быть и гниет, может быть и гибнет, однако первой пала, пусть отравленная западными ядами, не западная страна (в Солженицынском смысле), а Россия, которая вплоть до 1905 года, а то и 1917 года, не знала ни «ложного свободолюбия», ни избытка свободы, ни избытка правового сознания. (В еще большей степени это можно сказать о второй жертве западных ядов, Китае). В этой невозможности противопоставить худому Западу нечто реально или потенциально лучшее — ахиллесова пята Гарвардской речи. Правда, дважды Солженицын пытается найти в русской реальности признаки превосходства. «Странно, говорит он, вот на Западе достигнуты наилучшие социальные условия — а преступность несомненно велика и значительно больше, чем в нищем и беззаконном советском обществе...» Но соответствует ли эта оценка истине? Если верно, как утверждают все, что в Советской России распространяется повальное пьянство, захватившее и детей, если верно, что повсюду царит взяточничество и коррупция, если ежегодно выносится несколько сотен смертных приговоров, то можно ли говорить о том, что преступность в Советской России значительно меньше, чем на Западе? И почему так старательно скрываются в СССР точные данные о преступности, которые позволили бы научно сравнить нравственное состояние разных стран? Наличие преступности при хороших, даже оптимальных социальных условиях просто свидетельствует о несводимости ее к социальным факторам. Греховность человека не изгнать достатком, она — духовного свойства, но вряд ли «духовно опустошенный» человек в советских государствах менее греховен, менее склонен к преступности. Или тогда «духовная опустошенность» остается без последствий?
И еще один как бы несомненный факт превосходства над Западом отмечает Солженицын: расслабление характеров здесь и укрепление их на Востоке: ...«сложно и смертно давящая жизнь выработала характеры более сильные, более глубокие и интересные, чем благополучно регламентированная жизнь Запада». Это несомненно так, когда смотришь на самого Солженицына, это быть может и так в ряде других случаев, но верно ли это утверждение в обобщенном смысле? И на десятки сильных характеров сколько приходится слабых, затертых, исковерканных «сложно и смертно давящей жизнью». Да, испытания закаляют людей, войны и революции выдвигают сильные личности (и на Западе тоже), но ведь нельзя же ради этого желать «смертной жизни»? И опять-таки, как при духовной опустошенности вырабатываться сильным характерам? Получается так: если на Западе человек слаб, то это в силу царящей там системы, если человек в России силен, то это вопреки враждебному ему строю. А что будет с русским человеком, когда Россия, как мы все надеемся, пойдет по пути более ровному, более благополучному?
Не трудно подвергнуть критическим замечаниям еще и другие пункты Гарвардской речи. Не утопично ли думать, что социальные отношения между людьми с одной стороны, между индивидом и государством с другой, можно урегулировать иначе, чем через разработанную сеть законов? Как оградить человека от собственной его греховности, как обеспечить его неприкосновенность от всемогущего в наши дни государства иначе, чем через правовое сознание? Ведь сама Церковь, призванная являть спасённое общество, и та неизбежно выработала правовые отношения, «каноническое право», хотя она, в идеале, знает лишь власть любви и даже знание возвела в любовь.
И тем не менее наша критика бессильна против основной, нутряной правды Гарвардской речи. Не анализ западных слабостей в ней убеждает, а призыв, устремление, пророческий пафос. На таком языке, на таком моральном уровне, сегодня с Западом никто не смеет или не хочет говорить.
«Зачем пророчествует одна только Россия?» спрашивал себя Гоголь. И отвечал сам себе: «Затем, что она сильнее других слышит Божью руку на всем и чует приближение иного царства».
Таким русским пророческим духом и является Солженицын. Его критика Запада объясняется тем, что он из тех редких избранных, которые сильнее других слышат Божью руку в истории, да и саму историю измеряют мерою иного царства.
Источник: Вестник русского христианского движения, № 126, III – 1978. (Париж-Нью-Йорк - Москва).
О ГАРВАРДСКОЙ РЕЧИ А. СОЛЖЕНИЦЫНА
Солженицын не только писатель, но, как и его великие предшественники XIX века — Гоголь, Достоевский, Толстой, он одарен еще и пророческим даром, пророческой харизмой. Что превращает писателя в пророка? Прежде всего, соотнесенность его слова высшей Ценности, понятой как безусловное нравственное веление. Но право пророчествовать, данное Богом, надо еще закрепить. Как Достоевский, Солженицын заплатил за это право годами страданий, а после выхода из лагеря тем, что целиком отдал себя, свою жизнь, свое творчество — служению.
Гарвардская речь принадлежит к роду пророческих выступлений Солженицына. Как пророки Ветхого Завета, хотя и в несколько ином, более политическом ключе, Солженицын обращается к своим современникам на Западе с беспощадной критикой и с призывом измениться, переродиться, чтобы избежать полного исторического крушения. И в этом бичевании западных пороков, сопряженном с призывом вверх, есть своя пророческая непреложная правда, с которой не поспоришь. Правда Гарвардской речи не столько в тех или иных конкретных обличениях, сколько именно в этом экзистенциальном соотношении пророка и реальности. В каком-то смысле подлинный пророк всегда в целом и в основном — прав, даже если в частностях не справедлив. Более того, пророк вероятно всегда отчасти несправедлив, и тем не менее, в ином, надмирном плане, прав.
Безусловно, западные страны не на высоте своего призвания, безусловно, им угрожает гибель от внешней грубой силы, безусловно, им необходимо отрясти засасывающую тину комфорта, самоуслаждения и обратиться вверх.
И голос Солженицына раздается тем громче, что на Западе упадок религиозного сознания повлек за собой и угасание пророческого слова. Пожалуй, последним пророком на Западе был французский католический писатель Ж. Бернанос, который с неистовством призывал своих современников очнуться от духовной спячки, пока не поздно. Но голос Бернаноса редко когда перелетал за пределы Франции. Солженицын же восстановил пророческое измерение писателя во всемирном масштабе.
Обличая Запад, Солженицын продолжает длинную, полуторавековую традицию русской общественной мысли. Уверенность, что начала западной философии губительны для человечества, восходит ко временам французской революции. Известный масон-мистик Иван Лопухин писал в конце XVIII столетия: «Дух ложного свободолюбия сокрушает многие в Европе страны», и это изречение Солженицын мог бы поставить эпиграфом к своей речи. Именно «ложное свободолюбие», а не драгоценный дар свободы усматривает он на Западе. Поразительны совпадения с речью Солженицына в «Русских Ночах» кн. Одоевского. Уже тогда казалось, что «Запад гибнет», что в своем «материальном опьянении» он эгоистически забывает о главном. «Говорят о всеобщей воле, пишет Одоевский, а дело идет о выгоде нескольких купцов или, если угодно, акционерных компаний.» Ср. Солженицынскую критику нефтяных компаний, которые «покупают изобретение нового вида энергии, чтобы ему не действовать». В сходных выражениях обличают Одоевский и Солженицын западного журналиста, хотя между ними 150 лет сложной и бурной истории. У Одоевского: «журналист на Западе до истощения сил уверяет в своем беспристрастии, но все его читатели хорошо знают, что во вчерашнем заседании акционерной компании журналу определено быть того мнения, а не иного». У Солженицына: «у западной прессы в целом тоже обнаруживается общее направление симпатий (ветер века), общепризнанные доступные границы суждений, а может быть и общекорпоративные интересы...»
В нападках на юридизм на общество, «ставшее на почву закона, но не выше», Солженицын очень близок, вероятно сам того не зная, к Ивану Аксакову, писавшему сто лет назад: «На Западе душа убывает, заменяясь усовершенствованием государственных форм, полицейским благоустройством; совесть заменяется законом, внутреннее побуждение регламентами, даже благотворительность превращается в механическое дело. Запад потому и развил законность, что чувствовал в себе недостаток правоты».
Можно было бы продолжить эти сопоставления, и найти у Герцена, Леонтьева, Розанова, а затем у Бердяева немало точек соприкосновения с Гарвардской речью, например, в отталкивании от демократии как от царства посредственности, в осуждении западной мягкотелости и т. д. Нам хотелось только подчеркнуть устойчивость в восприятии, вернее в неприятии Запада русским духом, русской общественной мыслью, с конца XVIII века вплоть до наших дней.
Однако далекие предшественники Солженицына имели перед ним одно преимущество: они противопоставляли гниющему (Шевырев), гибнущему (Одоевский) Западу русскую самобытность, крестьянскую общину, народ еще не тронутый неверием, силу религиозного быта и мистических традиций. А что теперь противопоставить Западу?
Запад может быть и гниет, может быть и гибнет, однако первой пала, пусть отравленная западными ядами, не западная страна (в Солженицынском смысле), а Россия, которая вплоть до 1905 года, а то и 1917 года, не знала ни «ложного свободолюбия», ни избытка свободы, ни избытка правового сознания. (В еще большей степени это можно сказать о второй жертве западных ядов, Китае). В этой невозможности противопоставить худому Западу нечто реально или потенциально лучшее — ахиллесова пята Гарвардской речи. Правда, дважды Солженицын пытается найти в русской реальности признаки превосходства. «Странно, говорит он, вот на Западе достигнуты наилучшие социальные условия — а преступность несомненно велика и значительно больше, чем в нищем и беззаконном советском обществе...» Но соответствует ли эта оценка истине? Если верно, как утверждают все, что в Советской России распространяется повальное пьянство, захватившее и детей, если верно, что повсюду царит взяточничество и коррупция, если ежегодно выносится несколько сотен смертных приговоров, то можно ли говорить о том, что преступность в Советской России значительно меньше, чем на Западе? И почему так старательно скрываются в СССР точные данные о преступности, которые позволили бы научно сравнить нравственное состояние разных стран? Наличие преступности при хороших, даже оптимальных социальных условиях просто свидетельствует о несводимости ее к социальным факторам. Греховность человека не изгнать достатком, она — духовного свойства, но вряд ли «духовно опустошенный» человек в советских государствах менее греховен, менее склонен к преступности. Или тогда «духовная опустошенность» остается без последствий?
И еще один как бы несомненный факт превосходства над Западом отмечает Солженицын: расслабление характеров здесь и укрепление их на Востоке: ...«сложно и смертно давящая жизнь выработала характеры более сильные, более глубокие и интересные, чем благополучно регламентированная жизнь Запада». Это несомненно так, когда смотришь на самого Солженицына, это быть может и так в ряде других случаев, но верно ли это утверждение в обобщенном смысле? И на десятки сильных характеров сколько приходится слабых, затертых, исковерканных «сложно и смертно давящей жизнью». Да, испытания закаляют людей, войны и революции выдвигают сильные личности (и на Западе тоже), но ведь нельзя же ради этого желать «смертной жизни»? И опять-таки, как при духовной опустошенности вырабатываться сильным характерам? Получается так: если на Западе человек слаб, то это в силу царящей там системы, если человек в России силен, то это вопреки враждебному ему строю. А что будет с русским человеком, когда Россия, как мы все надеемся, пойдет по пути более ровному, более благополучному?
Не трудно подвергнуть критическим замечаниям еще и другие пункты Гарвардской речи. Не утопично ли думать, что социальные отношения между людьми с одной стороны, между индивидом и государством с другой, можно урегулировать иначе, чем через разработанную сеть законов? Как оградить человека от собственной его греховности, как обеспечить его неприкосновенность от всемогущего в наши дни государства иначе, чем через правовое сознание? Ведь сама Церковь, призванная являть спасённое общество, и та неизбежно выработала правовые отношения, «каноническое право», хотя она, в идеале, знает лишь власть любви и даже знание возвела в любовь.
И тем не менее наша критика бессильна против основной, нутряной правды Гарвардской речи. Не анализ западных слабостей в ней убеждает, а призыв, устремление, пророческий пафос. На таком языке, на таком моральном уровне, сегодня с Западом никто не смеет или не хочет говорить.
«Зачем пророчествует одна только Россия?» спрашивал себя Гоголь. И отвечал сам себе: «Затем, что она сильнее других слышит Божью руку на всем и чует приближение иного царства».
Таким русским пророческим духом и является Солженицын. Его критика Запада объясняется тем, что он из тех редких избранных, которые сильнее других слышат Божью руку в истории, да и саму историю измеряют мерою иного царства.
Источник: Вестник русского христианского движения, № 126, III – 1978. (Париж-Нью-Йорк - Москва).